|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
Мой окоп между Волгой и ДономОтрывок из повестиНаш войсковой эшелон прибыл на узловую станцию утром. На соседнем пути стоял готовый к отправке санитарный поезд, до отказа забитый ранеными. Когда мы поравнялись, я шире раздвинул двери нашего дома на колёсах и стал пристально изучать взглядом стоящих на перроне людей. Большинство из них были ходячие, от них и посыпались бесконечные вопросы: "Ты не из Вичуги, браток?", "Может, из Иваново?", "На швейной фабрике до войны наладчиком не работал?.." Когда наш поезд с красной звездой на передке, попыхивая паром, остановился, от головного вагона командира полка понеслась долгожданная команда: "Стоянка десять минут… пе-ре-ку-ур…" И понеслась эхом через командиров рот, взводов, отделений. В хвосте бесконечного состава команда потеряла силу, затихла, и можно было расслышать лишь уносимое в сторону "ур-р…". Бойцы нашего 212 стрелкового полка перемешались с ранеными соседнего состава. Их гимнастёрки сильно отличались от наших; выгоревшие под летним палящим солнцем, зашитые в некоторых местах по-мужски, они давали понять, что лиха эти люди успели хлебнуть. У иных на обмундировании были заметны бурые, не поддающиеся стирке пятна крови. Ко мне подошёл красноармеец, лет тридцати, рука на перевязи. Опережая его, достаю из глубоких галифе расшитый супругой кисет, без слов подаю махорку раненому. Он мотает головой, говорит: "Нет, нет, некурящий я, братец, ты лучше скажи, не из Вичуги ли?" "Нет, – отвечаю, – из Кинешмы". Подумав, добавляю: "В Вичуге свояк живёт…" Я уже понял, что этот солдатик ивановский, по его особому окающему говору. Вот наш командир полка Баранов – москвич, он и говорит по-московски, растягивая слова, а большинство стрелков из особого 212-го нажимают на букву "о". За последние два месяца все говоры перемешались, но ивановцев ни с кем не перепутаешь, их поволжский за версту услышишь. "Набабкин я, Петро, воюю с осени 41-го, не слыхал про таких Набабкиных, все вичугские?.." Что я мог ответить этому парню? Киваю головой, мол, знаю такую семью, все, дескать, у них в порядке. Петро обнял меня за шею здоровой рукой и зашептал на ухо: "Спасибо тебе, земляк, это хорошая новость, а я вот отвоевался, гангрена пошла, кисть оттяпали…" Он отстранился, доверчиво заглянул мне в глаза и сказал серьёзно: "Немец давит несметной силой, наша рота истребителей танков получила приказ остановить на берегу Дона железных "панцирей", даже удалось поджечь несколько… Дальше ничего не помню, как санитар рассказал, откопал нас с товарищем он после боя… я контуженый да пораненный… а товарищ мой на той высотке вместе с другими остался…" Набабкин опустил голову, пилотка сползла на коричневое от загара лицо, и было трудно понять, то ли он всхлипывает, то ли что-то говорит. Ясно одно: человек сильно устал, по всей видимости, отозвалась контузия. Больше от него не требовалось никаких разъяснений и подробностей, бойцы стрелкового полка понимали, что совсем скоро предстоит схватиться с врагом не на жизнь, а на живот. Я за себя совершенно не страшился, к 44 годам уже многое повидал и всего перебоялся. Сердце щемило за семью: жену, троих детишек да отца, с трудом передвигающегося. В первую войну с неметчиной батя до самой Февральской воевал, в возрасте уже был. Солдатского "георгия" получил в аккурат перед боем, когда Керенский лично вручал награды его пехотной роте. В Гражданскую ранили в ногу, стал инвалидом, всё больше по хозяйству семье помогал, потом занемог и надолго слёг… От нахлынувших мыслей о семье отвлёк вичужанин, он крепко сжал моё предплечье и сказал: "Давай адресок, земляк, я весточку от тебя передам, коли в Кинешму попаду ненароком… Знаешь, как родные ждут твоих сообщений?.." Петро заглянул мне в глаза и, услышав команду "По вагонам!", сразу засуетился, и, видя, как я, спохватившись, взбираюсь в свой дом на колёсах, махнул здоровой рукой и крикнул: "Адресок-то, адре-е-сок…" Его слова утонули в перебранке вагонных колёс, которые мерно выстукивали всем известную железнодорожную дробь: "так-так, так-тадак-так". 2Ехали мы долго, и причина состояла в том, что все пути были забиты танками, пушками, конными повозками, многотысячным скоплением людей. Даже нашу особую 49-ю стрелковую дивизию держали часами на путях, отчего становилось тоскливо. Командиры строго следили за тем, чтобы мы не покидали свои вагоны, так как в любое время поезд мог тронуться. Злила неопределённость, и порой хотелось лишь одного: скорей попасть на фронт. Ничего нового за последние две недели о событиях в междуречье мы не узнали, двухполосная дивизионка, которую почтарь нам разносил, давала с фронтов скупые сводки. О больших потерях писать было нельзя, и военные журналисты публиковали материалы о боевой учёбе в полевых условиях. Газета зачитывались до дыр, и в дальнейшем её использовали в качестве самокрутки как хорошо горящий и тлеющий материал. Покурить махорочки – это счастье солдата, даже больше, чем фронтовые наркомовские сто граммов, как говорили побывавшие на передовой бойцы, влившиеся в наш полк по дороге. Я никогда не курил, но махорки припас на всякий случай. Отцов запас, он по болезни курить бросил, а махорочка скопилась. И пригодилась она мне наладить добрые отношения с призывниками, ставшими моими хорошими боевыми товарищами, с которыми делил и хлеб и кров, начиная с января 1942-го, когда попал в полк. На здоровье никогда не жаловался, дети мои подрастали, старшая дочь училась в шестом, та, что следом за ней, – в четвёртом классе. Сынишка только был первоклашкой. До призыва я работал много, на разных работах, усердно старался для семьи. Моих родственников раскулачили, как богатеев, на деле же они имели свою кузницу, а позже освоили сезонный валяльный промысел катанок. Революция всех подравняла, у родственников хозяйство описали и сослали в воркутинские края. Куда дальше, сам бог ведает. Наши с супругой попытки искать их не увенчались успехом, жена-то моя полуграмотная, только и научилась более или менее писать да считать. Девчонок она держит в строгости, заставляет хорошо учиться, и, видно, не зря, дочки-то уже лучше нашего понимают в разных науках. Я грамоту освоил в рамках начального образования, дальше не учился, и вовсе не потому, что ленив или ещё чего… Просто с раннего детства был приучен работать, потом вот женился, дети пошли, и в них любовь да ласку вкладывал, всё только для них. Мы оба богопослушные, крещёные, не иноверцы какие-нибудь. Всех своих детей крестили, несмотря на советское время. Кто истинно верит, тому нечего бояться власти, любой, ведь Господь учит только добру, справедливости и состраданию… Ну вот, кажется, поезд трогается, несмотря на июльскую жару и вагонную тесноту, малость полегчало на душе, едем, снова едем, движение – это всегда радость. На долгих стоянках думы разные одолевают, усталость наваливается, даже политчасы не спасают, дневные и ночные караулы, теоретические занятия, которые ведёт политрук в период долгих простоев. Теории много, и уже давно всё понятно, а вот представить себя на поле боя не получается. Даже после рассказов тех, кто возвращается с фронта. Как загрузились в эшелон, с той поры ни оной практической стрельбы. Зимой в казармах уставы разные изучали, военную присягу вызубрили, ночью разбуди – каждое слово отчеканим. Патроны экономили, ближе к концу февраля маршем да с песнями дошли до полигона и впервые из "мосинки" стреляли по мишеням, больше отрабатывали штыковой рукопашный бой. Случится ли этот рукопашный бой на деле? Рассказывают, что немец больше ведёт огонь с воздуха, давит танками, заставляет вгрызаться в землю миномётным да артиллерийским огнём. Какая уж тут рукопашная? И всё же наш 212-й полк – особый, это любит подчёркивать командир, он едет на войну с семьёй – с женой и дочерью. Есть и другие семьи в полку, в основном из командного состава. Фронт приближается, на донском направлении порой грохочет так, что глаз сомкнуть невозможно, особенно на зорьке, когда зверьё и природа спят крепким сном. Это и есть артподготовка, как объясняют бывалые бойцы, которые вливаются в дивизию по пути на фронт. Преимущественно это те, кто был легко ранен, подлечился-подлатался и снова в строй. На их опыт опираются командиры, им поручают проведение теоретических занятий с оружием, их уважают. Мы все находимся под присягой, так что назад дороги нет. Внутренний настрой боевой, нам на занятиях политрук рассказывал о том, как ополченцы стояли за Москву и остановили немецкие танки. Много полегло людей, но столицу враг не взял. Теперь задача стоит другая: не пустить немца за Дон, в междуречье следует сосредоточить все имеющиеся резервы. Эту информацию знают не все, командный состав и до командиров отделений. Скажу по секрету: бойцы тоже знают, солдатский телефон работает безотказно, на перекурах идёт живой разговор. Некоторые бывали до войны и в Ростове, и в Сталинграде. Кто учился, кто работал, а боец из нашей роты ехал в надежде, что встретит невесту, с которой переписывался почти год. Она работала в Иваново ткачихой, да вот семья перебралась под Сталинград, в совхоз. Его зазноба-то вместе с семьёй и укатила. Их отношения теперь лишь на переписке-то и держатся. Парень работящий, здоровья много, и храбрости ему не занимать, на занятиях по подрыву танка смело, без раздумий, лёг в траншею и, когда железная махина проползла, встал и бросил в задник деревянную гранату. Мне этот танковый наезд дался с трудом. Я вытянулся во весь рост, винтовку прижал к телу, муляж гранты под бок, руками голову закрыл и слушал нарастающий грохот гусениц. Когда танк поравнялся с траншеей, я плотней прижался к земле-матушке, обдумывая, каким из пяти способов, которым учил инструктор, метнуть гранату. Однако время шло, а мой схрон почему-то никто не атаковал. Тут я не выдержал, поднялся, замахнулся и замер: танка как не бывало. Что за чертовщина? Разворачиваюсь, а он стоит метрах в десяти, экипаж что-то бурно обсуждает. Я как пружина, тренировки даром не прошли, встал на одно колено и способом "из-за спины через плечо" со всей своей сорокалетней дури-то и швырнул деревяшку. Да в аккурат прямо в люк башни и угодил. Вижу, отваливается крышка и высовывается из него свирепое лицо механика-водителя да с матами: "Ты, едрёну твою кочерыжку, боец, не видишь, куда метишь? Вместо задницы бросаешь в башню…" Вылез и на меня прёт. Думал, схватимся, но командир отделения, мой ровесник, встал между нами и обрезал: "Не кипятись, танкист, боец не мог знать, что передача у тебя клинит. Ты думаешь, в бою кто-то будет разбирать, встал ты передком или задком? Да нет, конечно, "панцирьваффе" снарядом накроет твою железяку, и гори всё ясным пламенем…" Танкист остыл, перекурили, познакомились. Парня звали Алексей Понтелеймонов, новобранец, пороху не нюхал, в колхозе не успел урожай убрать, как повестка пришла. "На тракторе ты сам себе хозяин, а в танке – экипаж, всеми руководит командир, – затягиваясь дымом, объясняет Алексей. – Ясно, тренировались и в езде, и в маневрировании, но ведь зима, если человек замерзает, то о танке-то и речи нет…" Перекурив, механик-водитель махнул мне рукой и направился к машине. После обеда командир взвода вместо свободного времени построил нас перед казармой. Солнце находилось в зените и не по-зимнему пригревало. Нам было понятно: младший сержант построил бойцов для подведения итогов прошедшего занятия. Он вызвал меня из строя и отчеканил: "За проявленную смекалку и умелое поражение танка объявляю благодарность бойцу Красной Армии Фёдору Кольчугину". Я на мгновение растерялся, но тут же собрался и ответил: "Служу трудовому народу!" Это была моя первая благодарность за время пребывания в полевом военном лагере. Был зимой ещё один случай, тогда мы жили в каменных бараках с высокими потолками, большими печами и длинными квадратными трубами, выведенными наружу. В самые холодные дни печи топили два раза в день, но по ночам приходилось спать в одежде, порой сутками не снимали шинелей. Кормили нас неважно, бывало, питались, как говорят в таких случаях, святым духом. Выдерживали не все, больных отправляли в госпиталь, а здоровые продолжали осваивать специальность стрелка. 3Наш эшелон вот уже сутки в пути, удивительно, но идёт почему-то без остановок, видно, недаром выдали нам сухой паёк сверх нормы, который мы бережём как НЗ. Есть хочется не очень, организм больше воды требует. Пока командиры не видят, устраиваемся на шинелях прямо на дощатом полу, сложенные аккуратно гимнастёрки – в сторону, тяжёлые ботинки – ближе к выходу, откуда из щелей дует ветерок, белые солдатские широкие рубахи – под головами, вместо подушек. Кто-то посасывает самокрутку, кто-то уже в который раз чистит шомполом ствол винтовки или автомата, я открываю подаренную шурином пухлую книжку в ледериновом переплёте, у которой своя, ещё довоенная история. Мне её Сергей Просторов, то есть родной брат моей жены Лизаветы, на день рождения торжественно преподнёс в аккурат летом сорок первого года. Сергей специально ездил в Иваново, мы тогда уже в Кинешме жили, там, по его словам, и купил он в магазине в отделе военной литературы эту книжку. Называлась она "Наставление по начальной военной подготовке". Ну и пока домочадцы варили, пекли, жарили, накрывали на стол, шурин сидел в сторонке и перелистывал новенькие, ещё пахнущие типографской краской страницы. Я и не догадывался, что он приготовил мне подарок. Девчонки пытались заглянуть через Сергеево плечо да выяснить, чем он так увлёкся, однако тот сунул книжку за пазуху, давая понять, что мешать ему не стоит. В его больших руках книжка терялась, казалась крохотной – ну что там можно прочитать? Задавался я тогда вопросом, не предполагая даже, что скоро станет она мне и учителем, и воспитателем, и пронесу я её через горячие бои до самого Сталинграда. Подарки были и от жены, и от детей, а шурин всё сидел в сторонке на самом конце широкой некрашеной скамьи, закинув ногу на ногу, читал. Лизавета забеспокоилась. "Ты, Серёжка, чо отодвинулся-то от нас, давай присоединяйся, хоть чарку-то за Фёдора подними…" Если честно, я впервые столкнулся с таким поведением шурина. Он всегда садился за стол первым. После сестриного замечания он стал самим собой, придвинулся ближе к нам, младшая моя дочушка заползла к нему на колени и начала тянуть со стола всё, что попадётся под руку. И угощала Сергея всем сразу. Шурин делал вид, что ест, и незаметно складывал продукты в тарелку, стоящую рядом. В тот день он был не похож на себя, сосредоточенный, даже грустный какой-то. Вроде и сел ближе, но всё равно как-то сторонясь, что ли, и, когда ему плеснули белой, он встал, одёрнул подол косоворотки, поднял чарку и сказал: "Давай, Федя, за твои сорок три года выпьем, да снова нальём. Ведь скоро может такой случай и не представится больше, война идёт нешуточная, уже в соседних дворах провожают призывников, на Москву немец нацелился…" Сергей сделал паузу, рука его подрагивала, отчего водка в гранёной рюмке разволновалась, большими каплями падая на белую узорчатую скатерть. Он залпом выпил рюмку, выдохнул, прихватил пальцами огурец и, закусив им, достал из-за пояса книжку и протянул со словами: "Это тебе, на память от меня. Думал что-то из вещей подарить, да что толку: тряпка, она обносится, и выбросишь её, а книга, она, дорогой ты мой, навсегда. И детям достанется, и внукам…" Я, конечно, поблагодарил тогда шурина за подарок, но особого значения этому не придал. Выпили мы прилично, потом раздвинули столы и скамейки да ударились в пляс. Сосед наш Лаврентий, имевший бронь по инвалидности, принёс гармонь-трёхрядку, и давай мы веселиться! Война войной, но это там, на фронте, а в тылу пока ещё жизнь шла своим чередом, люди не только славно работали, но и хорошо умели отдыхать. Тем более что мои именины выпали на субботний день. Впереди воскресенье, можно и поспать лишнего, да и похмелиться было время. Я разошёлся так, что "барыню" отплясывал словно заводной. Что-то из моей груди пёрло, хотелось широты и необъяснимой радости. Хотя умом я понимал, особенно когда видел, как посыльные вручают повестки моим землякам-кинешемцам. Видел, как они, воодушевлённые, показывали серую бумажку с гербовой печатью родным и близким, и понимал, будучи старше и опытней их, что времена нас всех ждут непростые. Эта самая чуйка всегда спасала от безрассудных шагов. Однако в день своего рождения она отпустила меня и позволила остаться с самим собой наедине, вот и пустился я в пляс, приседая, притопывая ногами да прихлопывая ладонями. Мне казалось, что всё вокруг ходит ходуном, и дети тоже, глядя на меня, закружились в хороводе, выделывая ногами разные фигуры. Машутку, самую младшую, усадил я на загривок и давай вместе с ней отплясывать! Все хлопают в ладоши, а я с дочуркой хожу вприсядку. Плясал, пока не утомился. Скажу честно, очень давно я так не уставал. Помню, ближе вечеру из больницы выписали Дуню, жену Сергея, она была на сносях, содержалась на сохранении, почему и передвигалась медленно, словно утка, осторожно ступая по разноцветным самотканым дорожкам большой комнаты. За руки она вела двух дочек. Я обнял их и потянул в общий хоровод. "Брось, Фёдор, вот рожу и будем с тобой плясать, а теперь-то какая из меня плясунья?" Она прошла дальше в комнату и присела рядом с Лизаветой на лавку. Гармонист заиграл знакомую частушку, и женщины тут же подхватили куплет. Помню, что с шурином мы выписывали кренделя до тех пор, пока были силы. Сергей раскраснелся, глаза горят, тело пышет огнём, но соревнования в присядке не выдержал, хотя был меня моложе. Сел на пол, обнял колени и сказал: "Твоя взяла, Федя, ты победил!" Я, с трудом выбрасывая вперёд ноги, доплясал до своей скамьи и, усевшись на неё верхом, возразил: "Да нет, Сергуня, ты больше меня выпил, вот и вся недолга". Шурин был не слабым человеком, в свои тридцать пять лет он немало повидал, несколько раз уезжал на заработки куда-то в Сибирь. Валил лес, рубил просеки, работал на руднике. Когда вернулся, молодая жена родила вторую дочь. И вот на подходе был третий ребёнок. Ждали мальчишку, но Господь распорядился иначе, подарил им ещё одну дочку. Это будет позже, когда Сергей уйдёт на фронт, останется жив в бою на окраине Москвы, но под Смоленском получит тяжёлое ранение и в госпитале умрёт. Похоронят его там же, под Смоленском, в братской могиле вместе с земляками. Но пока он был живой, полный сил, и мы, поднимая один тост за другим, сидели за опустевшим столом и доедали последнюю закуску. Семьи наши давно разбрелись по комнатам, угомонились. Поняв это, и мы тоже разбросали матрасы и уснули… Утром голова кружилась от выпитого, поднялся я с превеликим трудом и увидел в окно, как Лизавета закрывает калитку за выходящим братом. Помню, что не прощались мы вчера, и было как-то неловко, что я проспал всё утро. Подошла Машутка и, дёргая за угол лоскутного одеяла, сказала: – Папа, а дядя Серёжа ушёл и наказал нам тебя не будить… Не дождавшись моего ответа, она спросила: – А мы сегодня будем плясать? Из кухни старшая Лидушка позвала нас обедать. Июльское солнце стояло высоко, было душно, створки окна в избе распахнуты. От русской печи, откуда Лизавета длинным ухватом вынула чугунок с борщом, дохнуло жаром. Дети расставляют миски, гремя деревянными ложками о их края, и семья усаживается за стол. Жена наливает в небольшие гранёные рюмки домашнее вино, настоянное на ягодах, и кивает мне: мол, давай, похмелись, станет легче. Сама слегка прикладывается к ободку рюмки губами и, хитро глядя на меня, ждёт. Я пью залпом, и Лизавета, видя, как я оживаю, ставит свою рюмку на скатерть, подвигая мне тарелку с борщом. Снова хочется жить… Теперь я знаю, почему Сергей был так задумчив и сосредоточен на моих именинах. Он держал во внутреннем кармане пиджака повестку из военкомата. Парни его возраста рвались на фронт, мог ли шурин остаться в стороне? Никогда. Он всегда был патриотом и порой спорил до хрипоты в горле, что сосланные в воркутинские края родственники всё же были раскулачены Советской властью правильно. Конечно, я имел другое мнение, но старался не высказывать его, будучи старше. Более того, я работал у своего дяди в кузнице, когда был безусым юнцом. Тогда я мало что понимал в жизни и запомнил лишь то, что родственников было много и все работали от зари и до зари. Да и дядя не жировал, всех нужно было накормить, одеть, обуть, старших учить кузнечному да валяльному делу. Зимой мы ездили на санях, летом на телеге, впрочем, как многие в деревне Карючи. Семья имела ещё и колёсную бричку, что вызывало зависть некоторых соседей. Но она была нужна дяде для поездок по губернии. Прежде чем сбыть товар, дядя много и долго договаривался. Поэтому он частенько отсутствовал, и все дела вёл его брат. Он был распорядителем. Когда дядя возвращался, усталый, пропитанный пылью, загоревший под ветром да солнцем, семья облегчённо вздыхала. Было ясно, что после короткого перерыва мужчины отправятся на ярмарку, повезут заказчикам бережно уложенный в сарае товар. Так и жили. Я окончил церковно-приходскую школу, хорошо писал и считал. Научился плясать, играл на балалайке и, по-моему, неплохо пел. Пробовался даже в церковный хор, но там долго не задержался, дядя о чём-то поговорил с батюшкой, и тот, перекрестив меня, отправил восвояси. Дяде нужны были работники, нанимать со стороны он не хотел и приглашал родственников. Я даже сапоги научился тачать, что в армии сильно пригодилось. Холодными зимними вечерами при свете огонька, вьющегося из снарядной гильзы, чинил сослуживцам обувь. Большинство были моими земляками. Как-то вызвал меня заместитель комполка по тылу и, измерив взглядом с ног до головы, спросил: – Ну что, боец, на фронт скоро? – Так точно! – по-уставному, торжественно, ответил я. Офицер несколько раз перелистал листки моего личного тощего дела, взятого в строевой части, и, захлопнув его, отрезал: – Завтра, Кольчугин, встаёшь на довольствие в роту снабжения. Будешь служить на вещевом складе. Я чуть было не поперхнулся от нахлынувшего на меня волнения. Принялся возражать, перечить и даже негодовать от такой несправедливости. Зачем я тогда вообще учился на стрелка, осваивал винтовку, автомат, пулемёт, ходил строевым шагом, ложился под танк?.. – Боец Кольчугин, – глядя на меня в упор, произнёс тыловик, – мой приказ ясен? – Никак нет, – зло бросил я. – Портянки на складе я считать не буду… Офицер помолчал, постучал тупым концом карандаша по столу, нахмурился и сказал: – Навоеваться ещё успеешь, Кольчугин. Такие, как ты, мне позарез в тылу нужны. А на фронт мы поедем с тобой в одном эшелоне. Так что иди и доложи командиру роты о новом назначении. – Нет, – не по-уставному возразил я, – меня призывали не в роту снабжения, а в боевое подразделение 212-го стрелкового полка 49-й стрелковой дивизии, в которой писатель-кинешемец Фурманов комиссаром служил. И на фронт я поеду вместе со своими товарищами… – Да-а, а в личном деле записано, что красноармеец Фёдор Кольчугин – добросовестный и исполнительный боец, вот и благодарность имеется… Офицер встал, зажал под мышкой папку и, выходя из кабинета, обернулся и приказал: – После обеда прибыть в моё распоряжение. Я стоял и не мог двинуться с места. В железной печке-времянке гудел огонь, я почувствовал жар, и казалось, щёки горят и противление прёт из моего мозга вызревшим текстом. Впервые мне захотелось закурить, я даже потянулся к карману галифе за кисетом, который носил на всякий случай. Большей частью угощал махоркой сослуживцев-курильщиков, но, видно, пришёл и мой случай. Я рвался на передовую, а какой-то снабженец ставит на моём пути препятствие... Я выскочил на улицу и, распахнув шинель (было жарко), почти побежал в казарму, к товарищам, которые должны, обязаны дать добрый совет. Умом-то я понимал, что кто-то из них в благодарность за пришитую подошву решил, что моё место в тылу. Фронт подождёт. Но душой я не мог принять приказ офицера-тыловика. Видно, и бог был на моей стороне. Иконка с его ликом хранилась в кармане гимнастёрки с документами. И я, прислушавшись к его совету, понял: нужно не медля идти к командиру полка, ни больше ни меньше. Полковник Баранов меня поймёт и поддержит. История с тыловиком разрешилась просто: Баранов, получив мой рапорт, переданный через ординарца, которому я несколько дней назад поправил каблуки на сапогах, тоже земляк, прикрыв за собой дверь в штабной кабинет, долго не выходил. Я терпеливо ждал, полагаясь только на бога. Даже молитву мысленно прочитал. И вот дверь нараспашку, вылетает, словно на крыльях, командир полка, на ходу застёгивая кожаный реглан, и, по-московски растягивая слова, восклицает, прищурившись, глядя на меня: – Ты и есть тот рукастый умелец, которого тыловики сватают? – Так точно… – отвечаю, волнуясь. – Коль за тебя земляки хлопочут, значит, так тому и быть, оставайся в родной роте, скоро отправляемся на фронт. Прибудем к месту, разберёмся, кому на передовую, кому в тыл… – немного туманно бросил на ходу командир и, выйдя во двор, сел в автомобиль, тронув рукой, затянутой в кожаную перчатку, плечо водителя, сказал ординарцу: – Проследи, Черторижский, чтобы без моего ведома снабженцы не переманивали бойцов… Докладывать немедленно! Продолжение следует «Прогресс Приморья», Онлайн-версия апрель 2020 от 24.04.2020 г. |
Опрос:
В каком состоянии, по-вашему, находится машиностроение Приморского края?
|
|
© 2009-2013 Общественно-политическое издание «Прогресс Приморья» Учредитель — Приморское региональное отделение Союза машиностроителей России. Разработка сайта — ЦРТ |

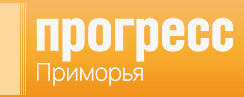

 Регистрация
Регистрация