|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
Присоединение дальневосточных земельБез сомнения, наш земляк Владимир Клавдиевич Арсеньев, 150‑летие которого в России отметят в 2022 году, был человеком широкого диапазона, который преуспел в краеведении, писательском творчестве, педагогической деятельности. Он словно разрывался между двумя краями – Хабаровским и Приморским, и всё же в итоге он выбрал местом жительства город у моря. Конечно же, он прекрасно знал имена Ерофея Хабарова, Геннадия Невельского, Ивана Москвитина, Василия Пояркова, Семёна Дежнёва, которые в разные века открывали приамурские территории, продвигаясь по дальневосточным рекам всё дальше на север российского государства, и ему мастерски удалось документально, доступно и литературно передать увиденное и пережитое в пути. Он никогда не расставался с путевым дневником. Тогда, когда его спутникам давалась команда отдыхать, набираться сил, Арсеньев продолжал работать. Задолго до него другие наши соотечественники, рискуя жизнью, уходили в таёжные дебри, плыли по горным рекам, столбили новые места, строили временные жилища, обозначали принадлежность этих суровых мест к России. Это потом стало понятно, что походы русских путешественников внесли существенный вклад в историю мореплавания, изучение географии, освоение Дальнего Востока. Ни для кого не секрет, что большая часть территории России приходится на северные районы. Освоение северных территорий было делом непростым: требовались мужество и преданность, если хотите, влюблённость в своё дело. Людей, обладающих этими качествами, в разные века нашлось в государстве немало. Имя Ерофея Хабарова знают у нас неплохо, хотя бы потому что по прибытии на железнодорожный вокзал в Хабаровске вы первым делом достаёте фотоаппарат и снимаете привокзальную площадь с памятником Хабарову. Город носит его имя, а загадка-шутка "В какой руке Ерофей держит шапку?" давно стала притчей во языцех. Отгадка простая: шапка у Хабарова там, где ей и положено быть, – на голове. Однако дело, которое в своё время затеял Хабаров, – путешествие в дальневосточные земли – оказалось далеко не шуточным. Но он своего добился и вошёл в историю как исследователь Амура и его берегов. Увы, но потомки забыли другие имена первооткрывателей. Вот, например, Иван Юрьевич Москвитин. Даже историки не всё знают об этом человеке, затрудняются указать точную дату его рождения и смерти. Впервые имя Ивана Юрьевича упоминается в архивных документах, датируемых 1631 годом, 390 лет назад, когда он, будучи томским казаком, возглавив небольшой отряд, был послан на реку Ангару. Спустя шесть лет вместе с казаками Д. Е. Копылова он пошёл из Томска на реку Вилюй. Зимовали они в 1637 году на Ленском волоке, летом прибыли в Якутский острог, однако на Вилюй не пошли. Речным путём, ранее разведанным землепроходцами, отряд весной 1638 года спустился по Лене до Алдана и пять недель поднимался по этой реке – на сто вёрст выше устья Маи, правого притока Алдана. Шаман сообщил Копылову о большой реке "Чиркол или Шилкор", протекающей южнее, недалеко за хребтом. Речь, как считают исследователи, шла о реке Амур. В мае 1639 года на разведку пути к "морю-окияну" Копылов снарядил другую партию – 30 человек во главе с томским казаком Иваном Москвитиным. Восемь дней Москвитин спускался по Алдану до устья Маи. Далее, в пределах 200 километров, казаки двигались по Мае на плоскодонном дощанике, используя вёсла и шесты, в труднопроходимых местах шли бечевой. Миновав устье реки Юдомы, они продолжили путь к верховьям. В отписке Москвитина "Роспись рекам…" перечислены все крупные притоки Маи, включая Юдому. Последней упоминается "… река подволошная Нюдма" (Нюдыми. – Примеч. авт.). Прожив всю жизнь на Дальнем Востоке, не припомню периода, когда какой-либо населённый пункт или речное судно называлось именем Москвитина. Зато хорошо помню имя Семёна Дежнёва. Доводилось на двухпалубном пароходе в детстве плыть от Николаевска-на-Амуре до Хабаровска. В своё время был такой речной маршрут. Дежнёв, впрочем, оказался одним из немногих русских первопроходцев, кто умер своей смертью, вернувшись с Дальнего Востока в Москву. Когда Дежнёв первым из русских достиг устья чукотской реки Анадырь (он называл её "Онандырь"), погибла большая часть его спутников. Два корабля полярные бури разбили о скалы у берегов Аляски, третий унесло южнее и разбило у побережья Камчатки. Судьба тех экипажей навсегда осталась неизвестной. В Анадырском заливе Чукотки северные шторма уничтожили последний корабль – Дежнёва. Прибыв в Москву, он без прикрас описал свои мытарства: "И носило меня по морю всюду неволею и выбросило на берег за Онандырь реку. А было нас на коче всего 25 человек, и пошли мы все в гору, сами пути себе не знаем, холодны и голодны, наги и босы… И с голоду мы, бедные, врозь разбрелись. И ходили 20 дён, людей и дорог не видали. И воротились назад, и почали в снегу ямы копать…". На ледяном берегу Чукотки отряд Семёна Дежнёва остался зимовать, и за долгую полярную зиму половина не дожила до тёплых дней. Остались в живых 12 человек. Вот их имена: Семён Дежнёв, Фома Пермяк, Павел Кокоулин, Сидор Емельянов, Иван Пуляев, Михаил Захаров, Терентий Куров, Ефим Мезеня, Пётр Михайлов и Артемий Солдатко. Это те первые русские люди, которые достигли Чукотки и сумели каким-то чудом там выжить. Продолжение следует «Прогресс Приморья», № 45 (651) от 03.12.2021 г. |
Опрос:
В каком состоянии, по-вашему, находится машиностроение Приморского края?
|
|
© 2009-2013 Общественно-политическое издание «Прогресс Приморья» Учредитель — Приморское региональное отделение Союза машиностроителей России. Разработка сайта — ЦРТ |




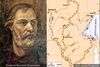

 Регистрация
Регистрация