|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
Раздвигали российские границыОбращаясь к теме расширения российских границ в разные периоды многовековой истории государства, не устаёшь удивляться, с каким упорством наши соотечественники продвигались на север. Ни лютые морозы, ни глубокие реки, ни таёжные препятствия не останавливали землепроходцев. Так путешественники достигли якутских земель, где остановились и стали обживать эти суровые места, о чём рассказывала газета Приморского регионального отделения Союза машиностроителей России в прошлом номере. После похода Ивана Москвитина якутский воевода снаряжает на восток отряд Василия Пояркова. В "наказной памяти", которую получил Поярков, воевода писал: "…велено ему – Василию – на те реки идти и государевым делом радеть. И серебряной, и медной, и свинцовой руды проведывать, и в тех местах острожки поставить и совсем закрепить". Выполняя это распоряжение, экспедиция Пояркова двинулась в путь. Преодолевая огромные трудности, Поярков добрался до Станового хребта, спустившись с него, вышел к берегам реки Зеи. Путешественники соорудили струги и стали спускаться вниз по течению реки и летом 1644 года достигли Амура. На одном из амурских островов казаки соорудили укреплённое зимовье – первое русское поселение на берегах великой реки Амур. То был период правления Михаила Фёдоровича Романова, которому досталось тяжёлое бремя ликвидации последствий Смуты. Интересно, что в 1645 году, когда престол занял Алексей Михайлович (Тишайший), отряд Пояркова вышел по Амуру в Охотское море и спустя три месяца достиг устья реки Улы. В 1646 году отряд вернулся в Якутск. Сибирские летописи оставили потомкам реальные свидетельства трёхлетнего сложнейшего, полного драматических событий путешествия поярковцев на Амур. Немало свидетельств оставил и сам Василий Поярков, который вёл подробные записи путешествия. Из этих записей перед нами встаёт образ сильного, крепкого, с государственным умом человека. Письменный голова Василий Поярков, по словам его биографа В. Т. Каманина, "был одним из сильных духом и могучих телом русских землепроходцев, которые, двигаясь небольшими отрядами по неизвестным ещё местам, подвергаясь ежедневно и ежечасно опасности погибнуть в борьбе с природой, человеком или диким зверем, делали великое дело, преобразуя обширные просторы сибирской тайги. Одни падали в этой суровой борьбе и гибли, другие поднимали из рук павших товарищей их оружие и шли дальше. Время от времени им приходилось оставлять походную жизнь и возвращаться в выстроенные в только что открытой Сибири "государевы остроги", сдавать собранную в ясак великому государю мягкую рухлядь и рассказывать в воеводских канцеляриях и съезжих избах о том, чему они были очевидцами, что видели и слышали". Если кто-то думает, что открытие новых земель происходило спонтанно, то сильно заблуждается. К путешествиям готовились, более того, экспедиции снаряжались независимо от того, какой была политическая ситуация в стране и мире. Например, Владимир Арсеньев, юбилей которого дальневосточники отметят в наступившем году, совершил ряд переходов в период ослабления страны. Только что закончилась Русско-японской война, армия и флот залечивали раны. В 1905 году началась Первая русская революция, которая пошла на спад лишь в январе 1906 года. А уже в октябре этого же года исследовательский отряд Арсеньева, пересекая территорию Тернейского района, двигался по правому притоку реки Заболоченной – Сахалинский ключ, которая вела к перевалу через Сихотэ-Алинь. Этот трудный для проходимости участок пути отряд Арсеньева преодолевает за три дня. Дополнительным препятствием для путешественников стал первый выпавший снег. Перед последним штурмом Сихотэ-Алиня Арсеньев пишет: "…Сборы наши были недолги. Минут через 20 мы с котомками за плечами лезли через гору. От бивака сразу начинался крутой подъём. За эти два дня выпало много снега… На гребне мы остановились передохнуть. По барометрическим измерениям высота перевала оказалась равной 910 метров. Мы назвали его перевалом терпения". На современных картах – перевал Сахалинский. Дальнейший путь отряда продолжился по территории Красноармейского и Дальнереченского районов (современные названия). Дело в том, что это был заключительный этап экспедиции. Поднявшись на перевал Терпения Сихотэ-Алиня, измотанный тяжёлым подъёмом и снежной непогодой отряд, минуя продуваемый всеми ветрами перевал, сразу начал спуск в бассейн реки Иман (Большая Уссурка). Арсеньев фиксирует в дневнике: "Спуск с Сихотэ-Алиня к западу был пологим, заваленным глыбами камней и поросший густым лесом". Краевед Е. С. Сюсюркин в одной из своих статей пишет: "Каждый шаг давался с большим трудом. Небольшой ручей (на современных картах Спутник) приводит отряд к реке Нанце (южное разветвление. Сейчас река Резвушка). Утомлённый трудным переходом отряд натыкается на юрту, сложенную из кедрового карья, и останавливается на отдых… Километрах в 25 от Сихотэ-Алиня Нанца сливается с рекой Бейцей (во время экспедиции В. К. Арсеньева слияние рек Нанцы и Бейцы давало реку Колумбе, как давало начало реке Уссури слияние рек Улахе и Даубихе. На современных картах река Нанца стала Резвушкой, а река Бейца стала истоком реки Колумбе, как Янмутьхоуза у реки Уссури". По этому поводу у В. К. Арсеньева есть такая запись: "…Вследствие болезни я не мог идти скоро, часто останавливался, садился на землю и отдыхал… Река Колумбе… течёт по широкой заболоченной долине… Тропа всё время придерживается её правой стороны… В этот день мы прошли 12 километров и остановились у китайской фанзочки Сиу-Фу, где и заночевали… За ночь река Колумбе замёрзла настолько, что явилась возможность идти по льду. Это очень облегчило наше путешествие". Интересно, что, двигаясь по территории двух вышеназванных районов, отряд Арсеньева всё время натыкался на китайские и корейские обиталища. На реке Колумбе, которая протекала через самые глухие места Уссурийской тайги, отряд встречает то китайских охотников, ловящих ямами лосей, то корейцев, уничтожающих кабаргу исключительно из-за мускусной железы, так называемой струи. Встреч с браконьерами, как их стали называть много позже, было на пути отряда немало. Ясно, что не все занимались браконьерством. Другие обитатели глухомани становились проводниками экспедиции. Удэгейцы и китайцы вели отряд всё ближе к реке Иман. Об этом Арсеньев пишет так: "…Удэхеец, сопровождавший нас, хорошо знал эти места. Он находил тропы там, где надо было сократить дорогу. Не доходя до устья Колумбе, тропа свернула в лес, которым мы шли около часа. Вдруг лес сразу кончился, и тропа оборвалась. Перед нами была река Иман (Большая Уссурка)". Краевед Е. С. Сюсюркин разъясняет: "Как пишет В. К. Арсеньев, на старинных картах, составленных в 1854 году, река эта значится под именем Нимана. Слово это маньчжурское и означает "горный козёл". Отсюда легко могло получиться и другое слово – "Иман". Удэгейцы называют реку сокращённо – "Има" (кстати, на карте Пржевальского за 1866 год река Иман значится как Има, а в верховьях Имана "горных козлов" (горалов) называют иимами). Китайцы к этому имени прибавляют ещё слово "хе" (река), и получилась "Иманхе" – "река горных козлов". «Прогресс Приморья», № 2 (656) от 21.01.2022 г. |
Опрос:
В каком состоянии, по-вашему, находится машиностроение Приморского края?
|
|
© 2009-2013 Общественно-политическое издание «Прогресс Приморья» Учредитель — Приморское региональное отделение Союза машиностроителей России. Разработка сайта — ЦРТ |


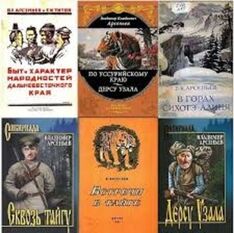

 Регистрация
Регистрация