 |
|
||||
|
|
|||||
|
|
Как 250 лет назад в России боролись с эпидемией чумыСегодня, как и в прошлом году, заразиться известной болезнью просто. Не соблюдайте масочный режим, посещайте места большого скопления людей, не пользуйтесь антисептическими средствами и, самое главное, не прививайтесь от болезни – и COVID‑19 нагрянет в ваш дом непременно. Или, что вполне возможно, прилипнет к вашему организму какой-либо новый коронавирусный штамм. И это не просто слова. Вся мировая история пестрит фактами о разных заболеваниях, приводивших не только к массовому заражению людей, но и к летальному исходу. Газета Приморского регионального отделения Союза машиностроителей России ранее обращалась к роману "Чума", написанному Альбером Камю. Трагические события освещают непростой период в жизни одного государства. Однако разгул чумы был зафиксирован во многих странах и в разные века. Россию, увы, эта страшная болезнь тоже не пощадила. 250 лет назад в Москве был объявлен карантин. Однако предприятия продолжали работу. Рядом с Большим каменным мостом располагалась крупнейшая московская мануфактура того времени – Большой суконный двор. С 1 января по 9 марта 1771 года на фабрике было зафиксировано 130 смертей. Администрация и медики пришли к выводу, что на Суконном – чума, а это значит, придётся остановить сбыт продукции. Последствия угрожали большими убытками. Решили подождать, карантин вводить не стали, обозвав болезнь "гнилою горячкой". Скончавшихся хоронили тайно, ночью и до тех пор, пока количество смертей стало невозможно скрыть. Рабочие, напуганные большой смертностью, стали разбегаться, разнося заразу по городу. Впрочем, в рамках врачебной проверки в марте на Суконном дворе обнаружилось 16 больных с сыпью и сыпными бубонами. Тогда стало ясно, что чума приобретает массовый характер. Фабрику закрыли, здоровых рабочих отправили на другие предприятия, больных увезли в подмосковный Николо-Угрешский монастырь, ставший первым чумным госпиталем. Однако Суконный двор не был окружён караулами, и тогда, узнав диагноз врачей, рабочие бежали куда, как говорится, глаза глядят. Если следовать хронологии, то эпидемия чумы началась в России годом ранее – в 1770 году, и бушевала болезнь до 1772 года. Считается, что в Москву чуму (это не вирусная, а бактериальная инфекция) занесли в период Русско-турецкой войны из Молдавии и Валахии. В августе зараза распространилась на Киев и Брянск. Доклады медиков о положении в этих городах заставили насторожиться императрицу Екатерину II. Она безотлагательно готовила письменные рескрипты и рассылала их на места. Даже получив разъяснения и инструкции о том, как действовать в сложившейся ситуации, руководители городов и провинций затягивали решение вопросов по борьбе с чумой. Они боялись ответственности и срочных мер не принимали. Императрица 19 сентября 1770 года велит московскому генерал-губернатору, "главнокомандующему в Москве" фельдмаршалу Петру Салтыкову: "Чтобы сие зло не вкралось в середину империи нашей, учредить заставу в Серпухове на самой переправе чрез реку и определить на оную лекаря, дабы все едущие из Малой России, кто бы то ни был, там остановлен и окуриван был". 14 ноября 1770 года императрица предписывает тому же Салтыкову организовать карантин на всех проезжих дорогах, пропускать к Москве только тех, кто имеет письменное свидетельство, что по их маршруту "заразительная болезнь не оказывалась"; те, кто ехал через заражённые места, должны были предъявить документ о прохождении карантина, но их всё равно помещали в дополнительный на двое суток. Вещи и одежду проезжающих предписывалось окуривать дымом, а депеши и пакеты "в уксусе обмачивать и потом на огне курением обсушать". И всё же чума проникла в столицу. Это случилось в декабре 1770 года – в военном госпитале, когда 27 служителей, имевшие контакт с ранеными, прибывшими с Русско-турецкой войны, заболели "злой лихорадкой". Из них выжили только пятеро. Главный врач госпиталя Афанасий Шафонский сразу понял, с какой заразой имеет дело, и доложил об опасности эпидемии начальству – в Медицинскую коллегию. Результат огорчил Шафонского: его обвинили в напрасном нагнетании ситуации и посоветовали не сеять панику. Более того, не было доклада о происшествии генерал-губернатору, и меры по борьбе с чумой приняли очень поздно. Императрица снова берёт инициативу в свои руки: она в конце декабря пишет графу Салтыкову, что из его донесений "усмотрела с великим сожалением", что "опасная болезнь" в госпитале "уже месяц как продолжается и что о том вам никто не рапортовал". Салтыков отчитывается: "Взяты всевозможные осторожности". Екатерина велела оставить "только открыто несколько въездов в город, на коих поставить заставы". В Москве императрица распорядилась "умножить публичные огни" и в них "жечь можжевельнику и других материй, кои в подобных случаях в употреблении". И ещё она приказала назначить "нарочитых попов, кои бы уже ни с кем сообщения не имели, окроме с зараженными для всякой церковной потребы". Екатерина советовала в письме: "Жителей, естьли сие приключение их привело в уныние, всячески старайтеся ободрить". Салтыков 7 февраля 1771 года спешит успокоить Екатерину таким донесением: "Вся опасность от заразительной болезни в Москве миновалась". Как стало понятно позже, донесение было преждевременным. Ни граф, ни императрица не знали, что вблизи Московского Кремля больше месяца свирепствует чума. Им об этом не доложили, боясь наказания. О том, что происходило за стенами Суконного двора, было рассказано выше. Когда фабрику закрыли, граф Салтыков снова поспешил доложить в Петербург о победе над эпидемией, однако на это раз Екатерина доверять бойким реляциям перестала. В марте 1771 года она регулярно даёт личные указания по борьбе с чумой: что делать с сукном, выработанным во время эпидемии, как обеспечить безопасность складских помещений, как поступить со скотом, "гонимым из Малой России на продажу", и так далее. Императрица понимает, что любое промедление посеет небывалую панику и сдержать этот порыв будет очень тяжело. Она, убедившись в том, что в Москве "прилипчивая болезнь распространяться начинает", издаёт указ, запрещающий хоронить умерших внутри города. Для чумных больных Екатерина предписывает Салтыкову открыть ещё один госпиталь в каком-нибудь мужском монастыре "по примеру Угрешского" и ещё один монастырь отвести под карантин. В борьбу с эпидемией активно включились Симонов и Данилов, позже и Новодевичий монастыри. Про разбежавшихся рабочих Екатерина тоже не забыла. Она повелевает: "Прикажите публиковать в городе, чтобы бежавшие с Большого суконного двора фабричные немедленно все явились для выдерживания карантина… естьли же после публикации кто из них по городу шатающийся найден будет, таковых в полиции высечь плетьми и отсылать в карантин". Видя растерянность графа Салтыкова перед разгулом чумы, императрица откомандировала ему на помощь генерал-поручика Петра Еропкина. Ему вменялась в обязанность борьба с "прилипчивыми болезнями". Императрица принимала все меры, чтобы чума не достигла Петербурга. 31 марта Екатерина распорядилась окружить, находящийся на карантине город "для всех из Москвы выезжающих" по всем имеющимся дорогам в радиусе 30 вёрст. А саму "Москву, ежели возможность есть, запереть и не выпускать никого без дозволения". Возы с продовольствием было приказано останавливать в семи верстах от первопрестольной. В эти зоны московские жители должны были приходить в определённые часы и под присмотром полиции покупать продукты питания бесконтактным способом. Екатерина указывала, как вести торговлю: "Между покупщиками и продавцами разложить большие огни и сделать надолбы… чтобы городские жители до приезжих не дотрагивались и не смешивались вместе; деньги же обмакивать в уксусе". Велено было не пропускать проезжающих из Москвы не только к Санкт-Петербургу, но и в населённые пункты между столицами. Карантины устроили в Твери, Вышнем Волочке, Бронницах. Меры, принятые Екатериной, дали свои плоды: чума не вышла за пределы Москвы и не стала общероссийским бедствием. По свидетельствам тех лет, чума попала в Воронежскую, Архангельскую, Казанскую и Тульскую губернии, но общенациональной пандемии удалось поставить заслон. Но в 1771 году в Москве чума забирала жизни сотнями. «Прогресс Приморья», № 47 (653) от 17.12.2021 г. |
Опрос:
В каком состоянии, по-вашему, находится машиностроение Приморского края?
|
|
© 2009-2013 Общественно-политическое издание «Прогресс Приморья» Учредитель — Приморское региональное отделение Союза машиностроителей России. Разработка сайта — ЦРТ |

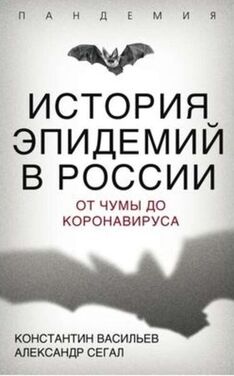

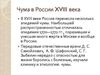

 Регистрация
Регистрация